Кутин В.Н., Хохлова М.Н.
Эпик фейл* ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ* БигТеха*.
ГДЕ КЛЮЧ к Левел ап*?
Сокрушительный провал цифровой трансформации транснациональных корпораций. Где ключ к новому уровню управления?
АБСТРАКТ
Мировой тренд XXI века – «Индустрия 4.0» и цифровые платформы. В 2014 году General Electric (GE) совместно с гигантами БигТеха: AT&T, Cisco, IBM и Intel для захвата контроля над глобальной обрабатывающей промышленностью создала Ассоциацию участников промышленного интернета (IIC). К 2021 году в IIC вошли: Microsoft, HewlettPackard, Accenture, Huawei, Bosch, ЕМС, SAP, Siemens, SAS и другие. GE с БигТехом создала промышленную облачную платформу Predix, объявив её практически «операционной системой» для заводов, аналогом Android или iOS в мире машин, языком промышленного интернета. Однако в 2020 году GE и Predix потерпели сокрушительное фиаско.
В статье дан анализ ключевых причин и проблем, сформированы требования к цифровым платформам промышленного программного обеспечения. Описаны альтернативные решения и новые принципы реализации цифровой трансформации «Индустрии 4.0» на основе закрывающих технологий цифрогенеза, графо-центричных платформ, инструментов, моделей и систем коллективного осознанного научнообоснованного сбалансированного управления (производственного, корпоративного, социального, государственного). Предлагаемые Россией закрывающие технологии имеют колоссальный общественно-политический ресурс.
Ключевые слова: цифровая трансформация, Индустрия 4.0, ТНК, промышленный интернет, IIoT, ИИ, цифровая платформа, экосистема, цифровой двойник, интегратор, агрегатор, API, KPI, система управления, барьер сложности, цифрогенез, промышленная революция, графо-центричная платформа, графо-центричная модель, закрывающая технология.
ВЫЗОВЫ
Сегодня ряд транснациональных компаний (ТНК) по объему капитала, диверсификации выпускаемой продукции, количеству трудящихся и геополитическому влиянию больше многих государств. Доминирование ТНК привело к смещению и изменению социально-политических ролей, новым глобальным угрозам, искажению смысла всех базовых экономических институтов. Повестку нового времени усугубляют: локдауны, климатические проблемы, рециклинг, декарбонизация, энергетические и ресурсные дисбалансы, промышленные революции, санкционные войны, разрушение логистики и кооперации. Государственные и корпоративные лидеры столкнулись с очередным барьером сложности в принятии адекватных решений. Повсеместно наблюдается кризис целей, расхождение миссий и лозунгов с реальностью, обман превращается в самообман.
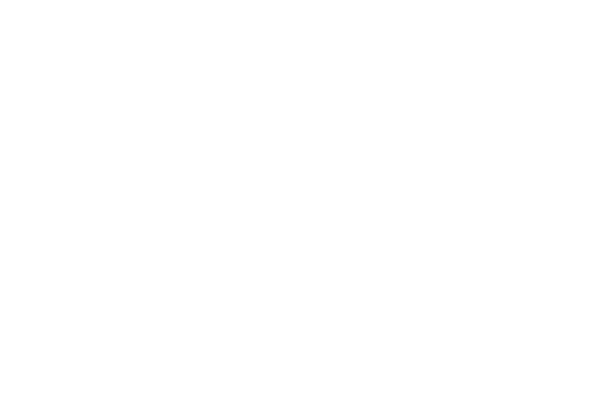
Кризис целей. Барьер сложности (мультицелевое управление ТНК,
сквозной технологический процесс, жизненный цикл производства, жизненный цикл управления)
Необходимость выбора правильного пути в условиях неопределенности вызывает стремление переложить с себя ответственность, но на «галерах» нет желающих её взять. Остаётся уповать на «волшебную» цифру и искусственный интеллект, которые на больших данных как-то сами должны построить «траектории успеха» «быстрых побед».
Под цифровую трансформацию с импортозамещением спрятан нарастающий кризис управления.
Однако для эффективной реализации инновационной «цифры» оказалось мало прогрессивных профессиональных бойцов. Кризисы в науке и образовании привели к тому, что специалистов, способных осмыслить предприятие (отрасль, регион, страну) целиком и свою роль в нём, всё меньше и меньше. Вместо понимания сути управления людей учат 3 отдельным навыкам, администрированию процесса, без понимания того, зачем вообще этот процесс нужен.
Предприятия наводнили: менеджеры, считающие, что результат работы это KPI, а не производимый полезный продукт; бухгалтеры, ведущие бухучёт ради сдачи отчётности; кадровики, нанимающие сотрудников формальноудобных, а не профессиональных; айтишники, упорно внедряющие системы не ради эффективности, а ради высокооплачиваемого процесса; и другие невежды, искажающие сам смысл совместного полезного труда.
Преодоление барьера сложности управления – ключевой вызов новейшей истории.
ТРЕНДЫ
Руководство ТНК стало форсировать решение проблемы управления, задав новые мировые тренды XXI века – «Индустрия 4.0» и соответствующие цифровые платформы (экосистемы). В 2014 году General Electric (GE) с отраслевыми гигантами AT&T, Cisco, IBM и Intel для захвата контроля над глобальной обрабатывающей промышленностью создали Ассоциацию участников промышленного интернета (IIC – Industry IoT Consortium). К 2021 году известно уже более чем о ста членах IIC, включая большинство технологических лидеров мирового рынка: Siemens, Microsoft, Hewlett-Packard, Accenture, Huawei, Bosch, ЕМС, SAP, SAS и прочие.
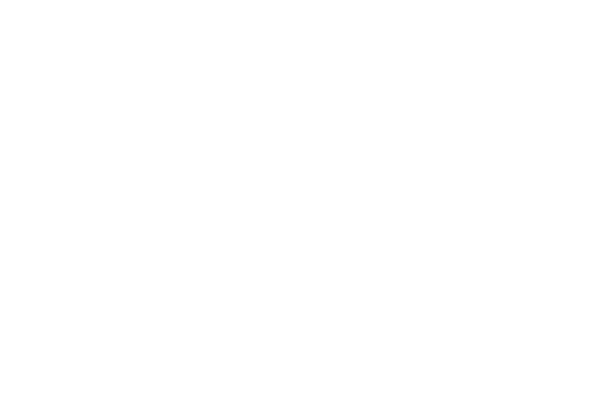
Кризис автоматизации (множество автономных информационных систем
на одних и тех же данных об объектах и процессах предприятия)
Их всех объединил лозунг: «Будущее Интернета – это умные машины, промышленный интернет вещей – открытая глобальная сеть, объединяющая людей, информацию и машины».
Управление IIC осуществляет Object Management Group (OMG, Бостон, Массачусетс). Инициатором ассоциации в лице GE поставлены задачи по обеспечению: совместного производства с сетевым взаимодействием, совместных исследований и разработок, координации работы и развития других новых моделей транснационального управления.
По расчётам IIC ожидалось, что к 2020 году годовой оборот рынка промышленного интернета вещей составит $225 млрд и за 20 лет повысится:
− производительность труда – на 25–40%,
− мировой ВВП – на $10–15 трлн.
Поэтому миссией IIC являлись цели преодоления отраслевых и региональных технических барьеров, ускорение полной интеграции между физическим и виртуальноцифровым миром, разработки новых методик, стандартов и эталонных архитектур; влияние на процессы разработки глобальных стандартов для промышленных систем; проведения открытых форумов для обмена практическими идеями, методиками, опытом и знаниями; укрепления доверия к инновационным методам реализации «Индустрии 4.0» и обеспечения инфобезопасности.
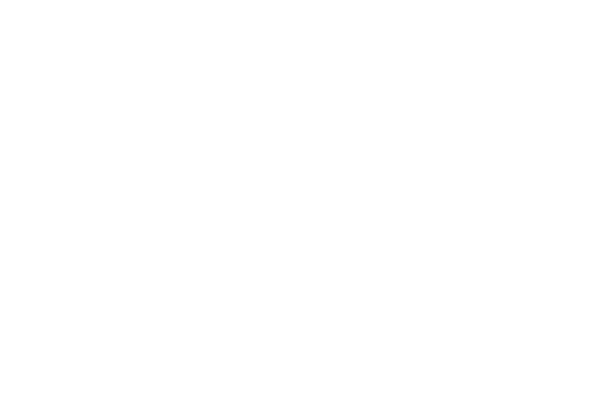
Кризис механистического подхода, декомпозиции (от «беспорядочной сложности»
к механицизму «организованной простоты»)
Члены IIC надеялись, что множество цифровых платформ и двойников; наборы приложений и роботов; общие «облака» и библиотеки; «озёра» и другие водоёмы данных; 5 сбор «бигдаты» и разработка множества ИИ; интеграторы и стандартизованный API; жёсткий KPI специалистов, деньги и лоббистские возможности ИТ-лидеров – панацея для решения поставленных задач. «Обмен данными – главная особенность глобализации XXI века» пишет Ма Хуатен в своей книге «Цифровая трансформация Китая». То есть, ничего лучше, чем объединить автономные цифровые части методом обмена данными (API) на очередной цифровой платформе (экосистеме), не придумали.
Исторически под платформой понимали нечто цельное, прежде всего в технологическом плане: «аппаратно-вычислительная платформа», «платформа программирования», «платформа моделирования», «игровая платформа» и т.п.
В настоящее время цифровая платформа (ЦП) рассматривается в цифровой экономике как точка формирования добавленной стоимости за счёт монетизации данных; как место встраивания в рыночные отношения путём предоставления прав доступа на её использование по «заманчивой» сервисной модели через объединение на одной площадке «спроса и предложения».
Беспощадная «уберизация» захватывает мир агрегаторами-маркетплейсами (инфраструктурными, инструментальными, прикладными и т.п.), предлагая как бы «сквозную» работу с данными:
− магазины по аренде чужих вычислительных ресурсов и общего программного обеспечения (ОПО),
− магазины как площадки сбора, хранения и купли/продажи чужой «бигдаты», чужих текстов программ (сервисов) и т.п.,
− магазины по аренде чужих программных языков, библиотек алгоритмов, компиляторов, отладчиков, интеграторов, API и других инструментов для разработчиков специализированных приложений,
− магазины и/или библиотеки своих и чужих разработанных приложений (сервисов),
− магазины купли/продажи чужих товаров/работ/услуг/сервисов на основе мобильных приложений для пользователей.
Один игрок рынка может одновременно реализовать несколько цифровых платформ разного типа, но делает это под единым брендом. Основным бенефициаром такой новой цифровой экономики – всегда будет владелец бренда. Показательными примерами являются компании Apple, Google, Сбер, Яндекс и прочие, которые по сути продают своё имя и доступ множества разработчиков к множеству пользователей.
Желая повторить «магазинный» успех топов мира цифры, GE в кооперации с лидерами БигТеха выразила свои грандиозные планы в «Индустрии 4.0» следующим заявлением: «...чтобы Predix (промышленная облачная платформа) стал Android или iOS в мире машин, языком промышленного интернета».
По прошествии последних 7 лет (с 2014 по 2021 гг.), потратив более триллиона долларов, прорывных решений нет, проблемы обострились.
Что же не хватило, что помешало повторить в мировой промышленности цифровой взлёт Airbnb, Aliexpress, Amazon, AppStore, AviaSales, Avito, Booking.com, Ebay, GooglePlay, Netflix, Wildberries, Uber, Яндекс.Маркет и других?
Оказалось, что завод – это сложнейший живой (непрерывно динамически изменяющийся) организм (единство специалистов, технологий, ресурсов), а не фан-клуб подписчиков стриминговых сервисов.
ПРОБЛЕМЫ
Исследуем как международные лидеры решали своевременно поставленные «Индустрией 4.0» цели и задачи, в чём причины грандиозной неудачи и «что делать?», чтобы не повторить чужих ошибок.
Проект Predix должен был ознаменовать новую эру в развитии GE, заложить основы лидерства в мире, где правят большие данные и искусственный интеллект. Кроме того, проект был нацелен на трансформацию собственного бизнеса, GE рисковал собой.
Рассмотрим рецепты и маршруты от GE, которые до сих пор многие пытаются копировать:
1. С 2014 по 2020 гг. были достигнуты соглашения о кооперации со всеми лидерами БигТеха: Apple, Microsoft, Accenture, AT&T, Cisco, IBM, Intel, Deloitte, SAP, Softbank, Verizon, Vodafone, Teradata,..
2. Создана (2015 год) отдельная дочерняя структура GE Digital (аналог института развития, а также центра компетенции, тестирования, апробации и проектного управления).
3. Разработана дорожная карта, на реализации которой «освоены» более 4 млрд долларов.
4. Куплены команды разработчиков, их софты, а также бесчисленные алгоритмы ML, DL и др. ИИ.
5. Под единым брендом Predix, назвав это промышленной облачной платформой, было собрано промышленное программное обеспечение (ППО) и открыт к нему доступ.
6. GE объявила Predix практически «операционной системой» для заводов.
7. Оплачены исследования рынков и масштабный рекламный маркетинг.
8. Сделаны обязательными включение в программы MBA кейсов GE, как канонических примеров уникальной цифровой трансформации.
9. Проведены сотни активностей, митингов, ивентов, митапов и прочих тусовок.
10. Административно-лоббистки достигнуто, что Predix единственное место для реализации стартапов ППО и IIoT (по англо-саксонской традиции ТНК одной рукой немного денег раздают, другой их же забирают, но с процентами).
11. Инициированы потоки данных с промышленного оборудования и датчиков на Predix, под обещания их собирать, хранить, не превратить в «мусор» и начать разумно использовать.
12. Правдами и неправдами на Predix зазваны команды «разрабов».
13. GE казалось, что оно сделало всё, как по учебнику, для превращения Predix в денежный печатный станок цифровой трансформации промышленности.
Итог: В 2020 году – эпик фейл, сокрушительное фиаско GE.
Уверенность в том, что только от количества денег, данных, коммуникаций, шумихи, визионеров зависит технологический прорыв «киберфизических» систем «Индустрии 4.0» обернулась ошибкой. Резкое падение финансовых показателей GE* было связано в том числе с откровенными просчётами GE Digital.
Идеология и стратегия создания магазиноподобного Predix на манер Appstore и GooglePlay принципиально не может быть применима к управлению сложнейшими промышленными объектами, что стало ярким проявлением кризиса цели GE.
Требования к цифровизации сквозных взаимоувязанных процессов производственного, корпоративного, социального, государственного и тому подобного управления объектами и процессами (реальными и виртуальными) не соотносимы с требованиями к цифровым платформам – агрегаторам «сквозной» работы с данными.
«Платформоделы» собрали гигантские склады автономных «чёрных ящиков» специализированного ППО, из которого предполагали сборкой формировать архитектуру Системы систем (System of Systems, SoS) для различных промышленных предприятий. Однако сложить ящики на один отраслевой прилавок мало, их все нужно «подружить», обеспечив интероперабельность.
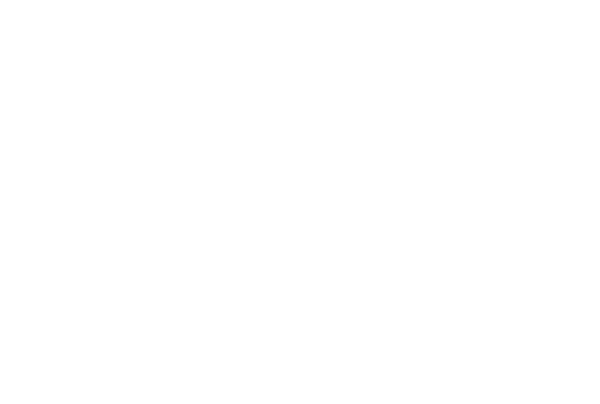
Кризис создания Системы систем (System of Systems, SoS) (информационные системы
– «чёрные ящики» с неизвестным, неконтролируемым количеством «чёрных лебедей», возможно, злонамеренных, – катастрофично)
GE сами диагностировали, пытаясь осмыслить анамнез своего провала, что причины лежат в их недостаточно глубоком погружении в производственные процессы, в отсутствии моделей взаимосвязанных «цифровых двойников», описывающих работу устройств для всех видов оборудования и т.п. Инженеры, в свою очередь, оказались не готовы полагаться на непредсказуемость рисков применения ППО, в котором невозможно прогнозировать «чёрных лебедей».
GE полагает, что к поражению их привело отсутствие специальной вертикали нормотворцев, надзирателей и контролеров, поэтому видит перспективу в создании института «отраслевых регуляторов, которые на основе эталонной отраслевой модели данных и эталонного описания бизнес-процессов отрасли, сформируют индустриальную отраслевую онтологическую модель».
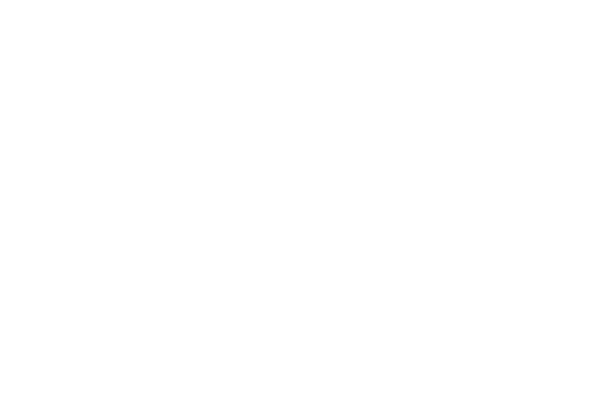
Кризис цифровых платформ – агрегаторов (разложив информационные системы
(«чёрные ящики») по отраслевым прилавкам невозможно достичь их интероперабельности)
Итак, с одой стороны, все более-менее одинаково определяют предприятие, как с ложную адаптивную социально-техническую систему, состоящую из взаимозависимых ресурсов, людей, процессов, информации и технологий, которые должны взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой в поддержке общей задачи. Поэтому требуют и от цифровой трансформации предприятия обеспечивать эмерджентное поведение (синергетические эффекты), эволюционное развитие (изменение по мере накопления опыта), самоорганизацию и адаптацию.
Одновременно с этим нелепо допускают, что выполнение этих замечательных и остро актуальных требований возможно при эксплуатационной и административной 9 независимости отдельных систем, их слепого переиспользования и бесконечной интеграции через API. Игнорируя, что для технологического процесса «чёрные ящики» с неизвестным, неконтролируемым количеством «чёрных лебедей», возможно, злонамеренных, – катастрофично. Примитивный анбоксинг ППО и рейтинг частоты переиспользования не снимают техногенные риски.
Нужна альтернатива, живые антихрупкие системы.
РЕШЕНИЕ
Описанная деструктивная модель цифровой трансформации промышленности является следствием отсутствия фундаментальных исследований, теории и базирующихся на них технологий преодоления барьера сложности глобального управления.
В русском мире первые теоретические и практические наработки в области управления сложными динамическими слабо-детерминированными системами были сделаны в конце 80-х начале 90-х при совместной работе нескольких институтов Академии наук СССР (Московского радиотехнического института, Математического института им. В.А. Стеклова, Института прикладной математики им. М.В. Келдыша, Института системного программирования им. В.П. Иванникова), которые стали фундаментом инновационного перехода*, ключом к Левел ап.
Оригинальность предложенного решения заключается в том, чтобы не идти от «беспорядочной сложности» к механицизму «организованной простоты», а перейти на новый уровень «организованной сложности», собственно развитию Общей теории систем* в симбиозе с теорией автоматизированных систем управления на новых принципах и подходах. Обоснован отказ от концепции физикалистского редукционизма, сводящего всякую систему к набору конечных автоматов («чёрных ящиков»), из совокупности которых безуспешно пытаются сконструировать ту или иную Систему систем.
Новый подход к цифровой трансформации и реализации «Индустрии 4.0» основан на следующих основных принципах:
− единства и целостности,
− множественности целей,
− эволюционности развития, преемственности и непрерывности,
− «бесшовного» распределенного коллективного взаимодействия,
− междисциплинарности с изоморфизмом законов в различных областях,
− конвергенции с наследованием, инкапсуляцией и полиморфизмом,
− всеобщей транспарентности,
− семантической интероперабельности,
− самоорганизации,
− сетевой сбалансированности,
− измеримости целей и деятельности (процессов и результатов),
− разграничения полномочий и персонификации вклада,
− динамической стандартизации,
− результативности.
Предлагается теоретическая, методологическая и технологическая альтернатива агрегаторам ППО – цифровой генезис (цифрогенез) ППО, создание на новой единой графоцентричной платформе целостной модели и системы коллективного осознанного научнообоснованного сбалансированного управления (производственного, корпоративного, социального, государственного).
Цифрогенез необходим для коллективного эволюционного моделирования и «бесшовной» конвергенции знаний о взаимосвязанных объектах и процессов управления, которые в настоящее время находятся в слабосопоставимом перечне систем, модулей, приложений, сервисов и т.п., включая:
MRP – Material Requirements Planning, ERP – Enterprise Resource Planning, MDM – Master Data Management, AMHS – Automated Material Handling System, APC – Advanced Process Control, APS – Advanced Planning & Scheduling, BPM – Business Process Management, BI – Business Intelligence, CMM – Collaborative Manufacturing Management, CPAS – Collaborative Process Automation System, CPM – Collaborative Production Management, CPS – Collaborative Planning & Scheduling, CRM – Customer Relationship Management, CSR – Customer Service Representative, EAM – Enterprise Asset Management, EMS – Electronic Manufacturing Services, LIMS – Laboratory Information Management System, WMS – Warehouse Management System, NPI – New Product Introduction, OpX – Operational Excellence, PAM – Plant Asset Management, PDM – Plant Data Management, PLM – Product Lifecycle Management, PSC – Plant Services Connector, PSM – Product Service Management, SBA – Service–Based Architecture, SBI – Service Based Infrastructure, SCM – Supply Chain Management, SCPM – Supply Chain Process Management, SEM – Strategic Enterprise Management, SFA – Sales Force Automation, SRM – Supplier Relationship Management, TMS – Transportation Management System, VMI – Vendor Managed Inventory, KM – Knowledge Management и др.
Как результат цифрогенеза в целостном эволюционно развиваемом гиперграфе модели и системы управления концептуально решена проблема хаотически собираемых и многократно дублируемых данных, а также методов их обработки, их логической, параметрической, пространственной и темпоральной «бесшовной» взаимосвязанности.
Международные эксперты в области науки / промышленности / обороны, так определили новизну разработанных русских подходов:
«…The following technical areas for potential collaboration were identified:
Architectures.
There are a number of national developments on defence architectures where technical co-operation may be of potential value - if only to address issues of interoperability. Other aspects are service oriented concepts and the Russian work on alternative approaches;
Evolutionary Programming.
Current software development approaches may not be appropriate for the future as systems become more dynamic, more complex, have greater autonomy and intelligence, are self-organising, healing, repairing etc. There may be value in understanding the Russian hypergraphics techniques and new approaches to software development cycles and comparing these with developments in other nations on graph theoretic methods and bio-mimetic techniques;
Through Life Capability Management / System Whole Life Cycles / Immortal Systems. Considering the life times of defence equipment and the rapid progress of technology, better methods, techniques and tools for managing the whole life cycle of systems and capability from "cradle to grave" is needed. There may be value in sharing the approached adopted by nations and by the Russian Federation in dealing with this complex area…»* .
«...Были определены следующие технические области для потенциального сотрудничества:
Архитектуры.
Существует ряд национальных (российских) разработок в области оборонной архитектуры, в которых техническое сотрудничество имеет потенциальную ценность – хотя бы только для решения проблем интероперабельности. Другие аспекты – сервис-ориентированная концепция и российская работа над альтернативными подходами;
Эволюционное программирование (Моделирование). Современные подходы к разработке программного обеспечения не могут быть применимы для будущего, так как системы становятся более динамичными, более сложными, обладают большей автономией и интеллектом, самоорганизуются, изменяются, развиваются и т.д. Представляется ценным понять Российские технологии гиперграфов и новые подходы к циклам разработки программного обеспечения и сравнить их с разработками в других странах (НАТО) в области теории графов и био-имитационных методов;
Сквозное управление живыми процессами / Полный Жизненный Цикл Системы / Бессмертные Системы. Учитывая срок службы оборонной продукции и высокие темпы технологического прогресса, необходимы более совершенные методы, технологии и инструменты для управления всем жизненным циклом систем от "колыбели до могилы". Было бы ценно поделиться подходами, принятыми странами (НАТО) и Российской Федерацией в решении этой сложной области...».
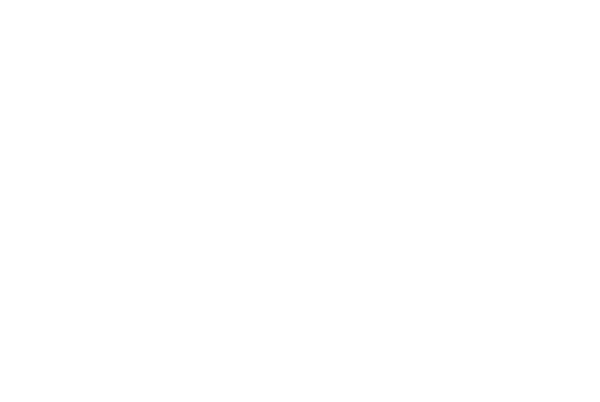
Цифрогенез. Графо-центричные платформа, инструменты, модели и системы (предлагаемые Россией
закрывающие технологии имеют колоссальный общественнополитический ресурс)
Специалисты установили, что принципиальное научное превосходство графоцентричных технологий над традиционными решениями достигается за счёт:
1. Новой архитектуры.
2. Новых языков и методов эволюционного моделирования.
3. Нового полного жизненного цикла систем.
Базовым компонентом новой технологии стало открытие графо-центричного метауровня абстракции, который позволяет соединить и взаимоувязать любые объекты и происходящие с ними процессы, не умозрительно онтологически, а на основе принципиально иных фундаментальных законов и структур.
Подобно природе, где все объекты мира связаны физически, химически, биологически и т.п., указанная абстракция представлена в виде целостной «цифровой модели промышленного предприятия» (актуальной, исторической, прогнозной), которую можно коллективно и распределённо моделировать, использовать, изменять и развивать.
Абстракция, являясь фрактальной структурой с предельно коротким описанием, позволяет сообща эволюционно создавать целостную непротиворечивую и взаимоувязанную цифровую модель исполняемой системы корпоративного управления.
Проведём анализ и оценку традиционных цифровых платформ – агрегаторов и цифрогенеза инновационных графо-центричных цифровых платформ по следующим ключевым критериям:
− архитектура,
− управленческое пространство,
− система управления техническими требованиями к ППО и их изменениями,
− адекватность,
− надежность и работоспособность,
− безопасность.
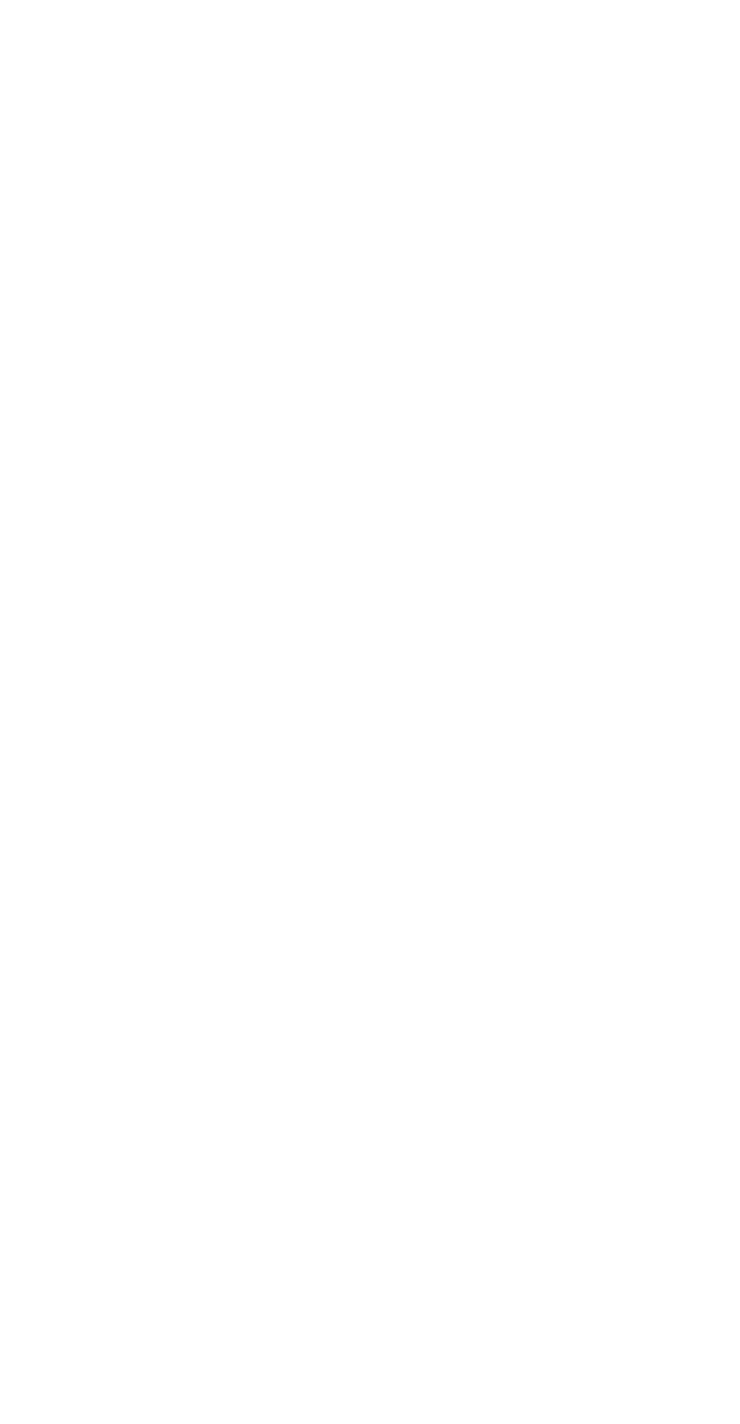
Цифрогенез, графо-центричные платформы, инструменты, модели и системы создания единой экосистемы коллективного осознанного научно-обоснованного сбалансированного управления (производственного, кор-поративного, социального, государственного) являются закрывающими технологиями*, ключом к Левел ап.
Закрывающие технологии – это основа будущего, они неизбежно радикально упрощают и удешевляют господствующие технологии, вынося им смертельный приговор. Они эффективны, оригинальны, безальтернативны и потенциально общедоступны.
Предлагаемые Россией закрывающие технологии имеют колоссальный общественно-политический ресурс.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Санкт-Петербург: Питер, 2001
2. Why GE Digital Failed.
3. Simons A.J.H., Graham I. 37 things that don’t work in object-oriented modelling with UML // Proc. 2nd ECOOP Workshop on Precise Behavioural Semantics, Brussels (Belgium), 1998 / Eds. H. Kilov, B. Rumpe. München: Tech. Univ. München, 1998. Pub. TUM-I9813. P. 209–232.
4. #Гиперграф:Платформа, Руководство аналитика. ООО "ГиперГрафГрупп", 2021.
5. Экспертизы и отзывы. М.: ООО «ГиперГрафГрупп», 2021.
6. Протоколы NATO RTO. NATO-RUSSIAN working platform on defence R&T co-operation.
7. Яблонский С.В. Основные понятия кибернетики // Проблемы кибернетики. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Вып. 2. С. 7–38.
8. Поспелов И.Г. Моделирование экономических структур. М.: Фазис, 2003.
9. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. М.: Физматгиз, 1962.
10. Хопкрофт Д., Мотвани Р., Ульман Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. М.: Изд. дом “Вильямс”, 2002.
11. Хохлова М.Н. Теория эволюционного моделирования. М.: "Цефей", 2004.
12. Волович И.В., Хохлова М.Н. O теории моделирования и гиперграфе классов // Труды Математического института им. В.А. Стеклова. 2004.
13. Хохлова М. Н."SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман", М.: ГосБук, 2012.
14. Ма Хуатэн Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики. М.: Интеллектуальная Литература, 2019.
___________________________
* Эпик фейл (Epic fail) – «сокрушительный провал». Слово epic имеет греческие корни, состоит в родстве со словом «эпос». Глагол fail в английском языке означает «терпеть неудачу», то есть «epic fail» это не просто провал, а полный крах, о котором можно сложить целый эпос в назидание потомкам.
* БигТех (BigTech) – технологические компании, которые строят свои экосистемы. Например — Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Tencent и прочие.
* Левел ап (Level up) – переход на новый уровень вверх.
* GE не вышла в лидеры производителей программного обеспечения и не стала конкурентом Apple, Google, Microsoft и Amazon. Инвестиции в цифровую трансформацию не дали отдачи. Платформа Predix не стала новой iOS, а GE Digital не стала Google индустриального мира. Компания быстро теряла стоимость. В 2000 году рыночная капитализация GE составляла $594 млрд., в начале 2018 года – $157 млрд. Курс акций GE с $31,6 снизился до $7,51 (2018 г).
* Консорциум компаний с лидером в лице ООО «ГиперГрафГрупп» (резидент ФТ «Сириус») разрабатывает инновационные системы управления глобальными структурами и осуществляет их цифровую трансформацию (gipergraf.ru).
* Общая теория систем – научная и логико-методологическая концепция исследований объектов, представляющих собой системы. Традиционные логико-методологические принципы исследования систем включают объекты: «вход», «выход», «процесс», «цель», «обратная связь», «взаимодействие», «функционирование», «развитие» и другие.
* Протоколы NATO RTO.
* Закрывающая технология – инновационная (подрывная, замещающая) категория научно-технического прогресса, которая в результате своего появления способствует благополучию человека и общества, сокращает потребность в ресурсах, качественно изменяет производительность труда и экономическую систему (в т.ч. рынки сбыта и баланс прав собственности на предприятия закрываемых отраслей).


